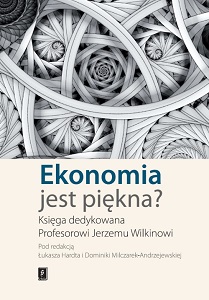
We kindly inform you that, as long as the subject affiliation of our 300.000+ articles is in progress, you might get unsufficient or no results on your third level or second level search. In this case, please broaden your search criteria.
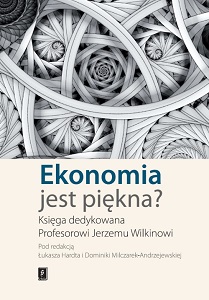
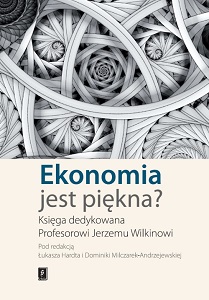
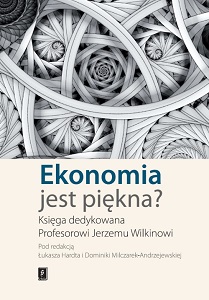
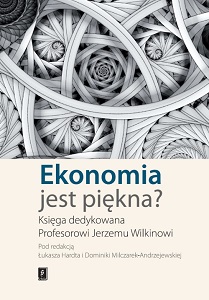
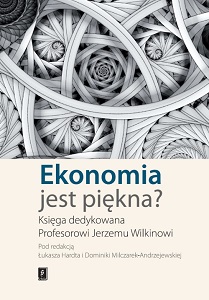
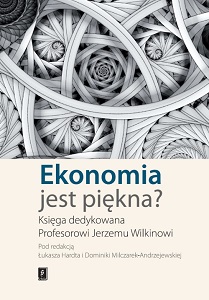
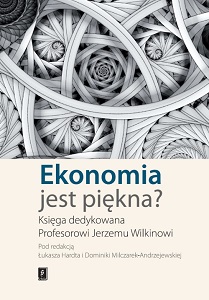

Zelené hnutí, tedy přinejmenším v České republice, ztratilo v poslední dekádě mnohé ze své mladické nerozvážnosti, ale také nemálo ze svého kdysi pevného a nekompromisního postoje. Dokázalo vybojovat mnoho důležitých malých bitev, ale rozostřil se a ztratil na hodnotě cíl, kvůli kterému se ve všech svedených bitvách bojovalo. Použijeme-li terminologii Andrewa Dobsona – z ekologistů usilujících o zásadní proměnu společnosti se stali environmentalisté-úředníci po milimetrech zlepšující parametry principiálně neudržitelného systému.
More...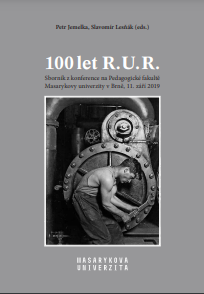
The text focuses on the forms of changes in the reflection of the robotic theme in the Czech environment. It includes literary works (brothers Čapek and other authors including newer Czech science fiction) as well as theoretical works that can be included within the framework of the philosophy of technology.
More...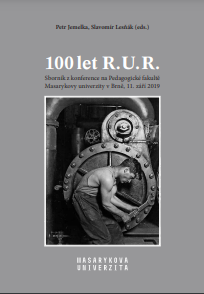
In the play R.U.R. Karel Čapek envisioned a futuristic society where robots not only take all our jobs, but also all our human vices and virtues. The downfall of humankind is in the end symbolized by the love of and between robots. Love and reproduction are, therefore, one of the main themes of the whole plot of R.U.R. People create robots. Robots create more robots. Robots destruct people. But what if robots could create more humans? This article is focused on the topic of robotic creation of humans. The main line of reasoning is dedicated to the analysis of the near future possibility of autonomous artificial human embryo selection. Current studies show, that AI -assisted pattern recognition provides space for dramatic progress in the effectivity of grading of the viability of embryos. The combination of this technology with other anticipated technologies could one day create prospects for a full robotic reproduction of humans. The article presents some arguments for and against the idea that humans could or should one day become robotic babies.
More...
The article analyses the ethical ideal of Jan Patočka. The author examines what solidarity possibilities the shaken have as moral subjects in times of ecological crisis. It considers the forms of solidarity and the way the shaken can get involved in the current world. The author of the article challenges Patočka’s demands on moral subjects as combatants and ascetics, and confronts Patočka’s views with selected contemporary authors. He compares the possibilities of Patočka’s ideal with the ideal of Bey’s temporary autonomous zone. He confronts the impacts of being shaken at the front with the feelings of the ecological crisis. He defines the moral model of the western, modern, resigned, subject based on the studies by G. Lipovetsky, and compares it with the behavioural models provided by the others analysed authors. The author of the article examines whether his moral model is similar to the Patočka’s ideal of great Czechness. The author comes to the conclusion that Patočka’s solidarity of the shaken is going to be more actual with the approach of an ecological disaster.
More...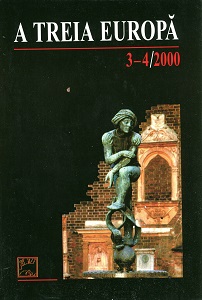
Fiecare cititor are exemplele sale favorite. Acest fapt nu ține doar de obișnuințele sale de lectură, de tabieturi, de universul privat și plezirist al înțelegerii literaturii. Hermeneutica filosofică și literară, concepte precum acela al „orizontului de așteptare” ne-au convins că există lecturi fondatoare, că interpretările noastre trăiesc în orizontul unor texte întemeietoare. Un uz ale cărui temeiuri și îndreptățire nu le mai interogăm astăzi ne-a obișnuit să numim aceste texte capodopere.
More...
The problem of what philosophy is for or what its function is, is as important a problem as other major philosophical problems in the history of philosophy. Also, it differs positively from them in that it has some practical consequences. Traditionally, we see that philosophy is divided into two functions: philosophy as a theory of knowledge and philosophy as a social theory. These instrumentalist approaches argue that philosophy can have a direct impact on the world by carrying out missions such as grounding knowledge and bringing social change. On the other hand, there is an alternative approach that argues that philosophy should not be considered as a discipline that needs to be thought of in terms of its benefits it brings about. According to this essentialist approach, we should think of philosophy as a personal pursuit, a passion pursued in a way that is seperate from practical concerns. To see which of these approaches better reflects the nature of philosophy, it would be appropriate to look at the way it is currently applied and whether it can fulfill the traditional tasks assigned to it. This will show us that the essentialist approach is more preferable in the context of the problem of function than the instrumentalist approach.
More...
«Что говорит тебе твоя совесть?» – спрашивает обновитель ветхой заповеди языческой розни и, не дожидаясь ответа, решает: «Ты должен стать тем, кто ты есть!» А между тем, к изумлению нашего архиблудного сына, все ответы на предложенный вопрос начинаются тем, что у всех есть общего: все согласно, единодушно называют себя сынами, и даже родства не помнящие не отвергают, что и они имели отцов, что и они – сыны, внуки, правнуки, потомки. Даже сам враг единства, говоря о наследственных способностях, признает отечество и сыновство. Но когда этот самозванный законодатель обращается к совести других людей, он забывает обратиться и к своей. И благодаря такому забвению он превращается из законодателясвоевольника в послушное орудие Дельфийского демона и заповедует, что «каждый сам должен создать свою истину, свою мораль».
More...
Подобно тому как у Соловьева под «оправданием добра»1 оказывается осуждение и отрицание лишь порока, так и у Толстого. Хотя под видом эстетики («Что такое искусство?»2 ) Толстой и написал этику, тем не менее он знает лишь отрицательное добро, знает, что оно не есть, и не знает, что оно есть. Под искусством же Толстой разумеет только передачу чувств от одних к другим, а не осуществление того, что каждый носит в себе в передуманном и в перечувствованном виде, если только он истинный сын человеческий, носящий в себе образы своих родителей и предков, как бы это должно быть, а не блудный сын, как это обыкновенно бывает, сердце которого обращено к вещам, имуществу. Причем искренно или неискренно это свое пристрастие прикрывают обыкновенно заботою о детях, о будущем, т. е. о продолжении эфемерного и бесцельного существования. Не в осуществлении того, что носит в себе сын человеческий, видит Толстой цель искусства, а в объединении в одном чувстве, содержания которого не знает, а когда называет это чувство, по рутине, братским, то забывает, что люди – братья лишь по отцам, предкам, а забывши отцов, делаются чужими, и, следовательно, то, что Толстой называет братским, вовсе не братское.
More...
В последней книжке московского философского журнала (январь – февраль 1899), в разборе одного недавнего перевода из Ницше, В. П. Преображенский, знаток и любитель этого писателя, замечает, между прочим, что, «к некоторому несчастию для себя, Ницше делается, кажется, модным писателем в России; по крайней мере на него есть заметный спрос».
More...
О. Конт установил т. наз. закон трех состояний (loi de trois états), согласно которому человечество переходит в своем развитии от теологического понимания мира к метафизическому, а от метафизического к позитивному, или научному. Философия Конта ныне уже потеряла кредит, но этот мнимый закон все еще, по-видимому, является основным философским убеждением широких кругов нашего общества. Между тем он представляет собой грубое заблуждение, потому что ни религиозная потребность духа и соответствующая ей область идей и чувств, ни метафизические запросы нашего разума и отвечающее на них умозрение нисколько не уничтожаются, даже ничего не теряют от пышно развивающейся наряду с ними положительной науки. И религия, и метафизическое мышление, и положительное знание отвечают основным духовным потребностям человека, и их развитие может вести только к их взаимному прояснению, отнюдь не уничтожению. Потребности эти являются всеобщими для всех людей и во все времена их существования и составляют духовное начало в человеке в противоположность животному. Изменчивы, таким образом, только способы удовлетворения этих потребностей, которые и развиваются в истории, но не самые потребности.
More...
Не только образованная Россия, но и весь культурный мир с напряженным интересом встретили посмертные художественные произведения Л. Н. Толстого. В них воскресает великий мастер, силою послушного резца высекающий живые образы. Какая свежесть и непосредственность в «Хаджи-Мурате» и даже в отдельных сценах дидактических произведений, какая потрясающая простота и сила в «Дьяволе», какой зной душевный в «Отец Сергий»! 1 При всей незаконченности и неотделанности этих произведений, в них мы имеем такие создания русской художественной литературы, которые могут ставиться в один уровень даже с ранним творчеством Л. Н. Толстого, а выше этого могут ли быть вообще поставлены художественные произведения?
More...
Не пора ли уж перестать писать о Пушкине и о всех тех, кто блистал и действовал на его московской тризне? Довольно!… Общество русское доказало свою «цивилизованную» зрелость, поставило Пушкину дешевый памятник, – по-европейски убирало его венками, по-европейски обедало, по-европейски говорило на обедах спичи. По обыкновению своему, интеллигенция наша ровно, по этому поводу, ничего не выдумала своеобразного. У подножия монумента великого русского творца не обнаружилось ни одного молодого и оригинального таланта ни в ораторском искусстве, ни в поэзии; говорили речи и стихи, и вообще, действовали тут все люди прежние, с давно определившимися взглядами и давно известные; блистали люди, которых молодость прошла при прежних условиях, более сходных с условиями, развившими самого Пушкина. Враждебно ли или сочувственно относятся все эти таланты к старому порядку и его остаткам – все равно; они все обязаны этому поруганному прошлому как впечатлениями своими (то есть содержанием своих творений), так и умственными силами своими, трудившимися над воспроизведением этого содержания, данного русскою жизнью… Нового ничего!… Ни изобретательности в форме чествования, ни какой бы то ни было ум поражающей свежей мысли, либо вовсе неслыханной, либо давно забытой и просящейся снова в жизнь. Многое из сказанного и написанного по этому поводу было где-то и когда-то, наверное, тоже сказано или написано теми же самыми лицами или иными, и гораздо лучше, и полнее. Один только человек, как слышно, выразился по поводу пушкинского празднества вполне оригинально: это – граф Л. Толстой. Печатали, будто он, отказываясь от участия в этом празднестве, сказал: «Это все одна комедия!» 1 Я не думаю, чтоб это было так. Отчего ж комедия? Вероятно, многие были искренни в своем желании почтить память Пушкина… И хотя мне очень нравится эта независимость графа Толстого, его капризное пренебрежение к современности нашей, но я не вижу нужды соглашаться с тем, что все это – притворство и комедия. В искренность я готов верить; я желал бы видеть только во всем этом больше национального цвета, побольше остроумия и глубины. Все это, быть может, и очень тепло; но тепло как пар, не замкнутый в какую-либо форму. Тепло, даже горячо, порывисто, но рассеялось скоро и не осталось ничего. Все надежды, все мечты, и мечты вовсе не картинные! Правду сказали в «Вестнике Европы» (я где-то это прочел), что и в том «смирении», которое хотят признать уже довольно давно отличительным признаком славизма, есть много своего рода самохвальства и гордости, ничем еще не оправданных…2 Довольно об этом. Больше всего сказанного и продекламированного на празднике меня заставила задуматься речь Ф. М. Достоевского. Положим, и в этой речи значительная часть мыслей не особенно нова и не принадлежит исключительно г. Достоевскому. О русском «смирении, терпении, любви» говорили многие, Тютчев пел об этих добродетелях наших в изящных стихах3 . Славянофилы прозой излагали то же самое.
More...
Противление признанию имен субстанциальными или эссенциальными формами личности нередко бывает движимо то сознательным, то полусознательным намерением отстоять свободу личности: эссенциальность имен, как думают, ведет за собой детерминизм и фатализм. Побуждение доброе, но некстати. Определенность внутреннего ритма, который утверждается за каждым именем, есть в такой же мере отрицание нравственной свободы, как и весь физический и психический склад, сообщаемый личности расою и народом, к которым она принадлежит. Несомненно, африканская кровь ускоряет душевные реакции и повышает яркость чувств, по крайней мере, свойственных данному лицу; но, как следует отсюда отрицание нравственной свободы? Пойдем далее; наследственный алкоголизм, как и наследственная музыкальность, сообщают личности определенные предрасположения и склонности. Однако, нравственная ценность личности ими ничуть не предопределяется; да не предопределяются и самые поступки, хотя заранее известно, что, каковы бы они ни оказались, при внимательном разборе их можно будет открыть в них и характерную наследственность данного лица. Преступный идиот и блаженный юродивец – эти два полюса нравственных оценок, в смысле наследственности, может быть, плоды одного родового дерева. Любой фактор, определяющий строение личности, ее склонности, ее возможности, ее внутренний темп и ритм, должен натолкнуться как раз на те же трудности, что и имя: тем, кто свободу духовного самоопределения смешивает с хаотическим произволом, всякая определенность личностного строения, что бы ни было ее причиною, оценивается как ущерб свободе и источник фатализма. Но не наше здесь дело обсуждать проблему свободы, и вполне довлеет, коль скоро показано, что имя – помеха свободе не более всякого другого личностного формфактора; с нас достаточно и доказательства, что не от имени падает свобода, если она вообще падает от определенности личностной структуры.
More...